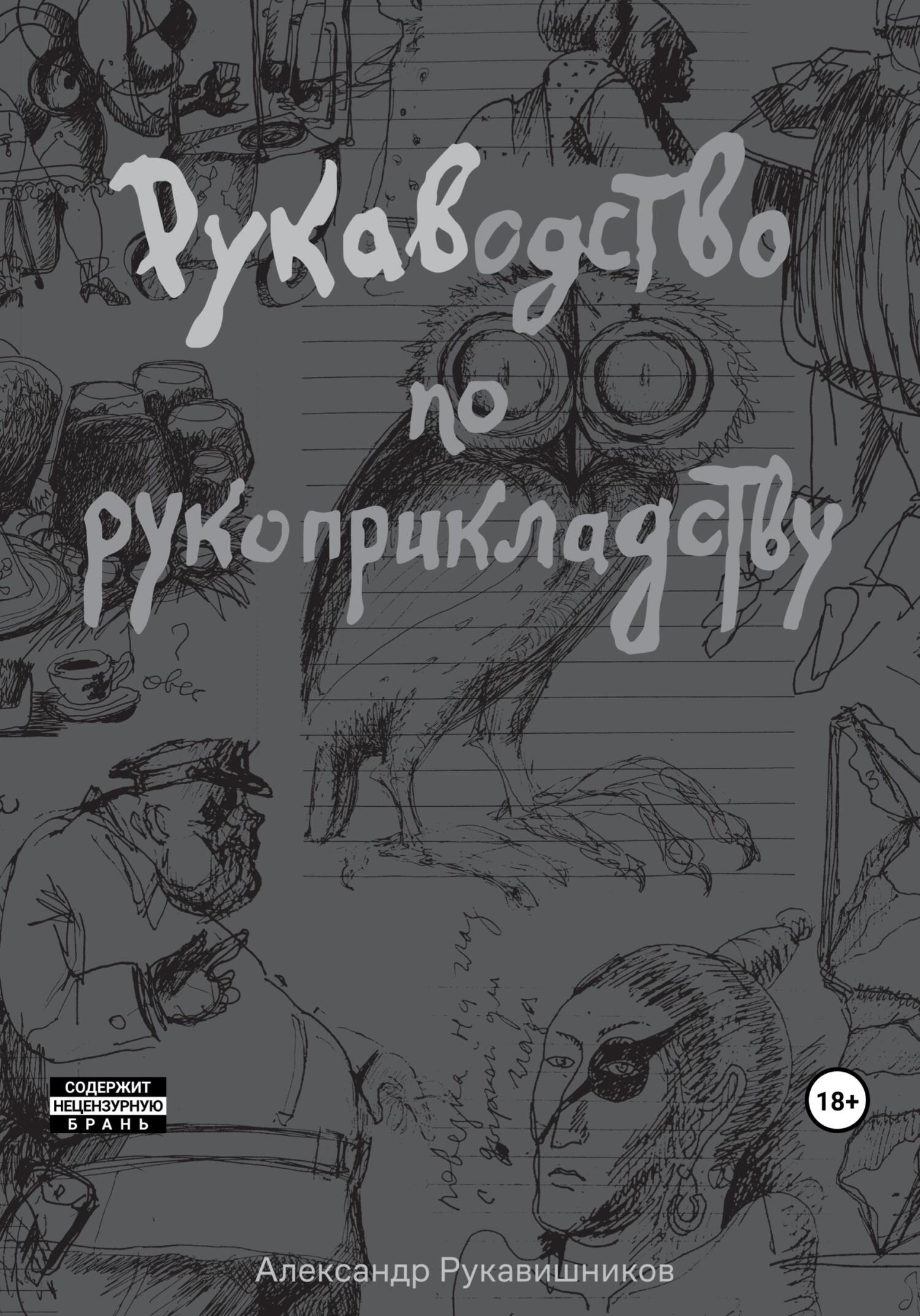еще пустующих музейных залов. «Рисуй руку в ракурсе!» — орал он, тыкая указательным пальцем чуть ли не в нос очередному претенденту. «Теперь лошадь в ракурсе снизу». — «Кааак?!» — «По представлению!» Очень смешно выглядели члены советов, которые должны были оценивать работу и делать замечания. В проекте одного музея, например, архитекторы придумали нестандартное архитектурное решение, обозвав его «каньоном». Нескольких членов совета оно возмутило до глубины души и даже взбесило: «Что это, понимаете, нет, товарищи, это не пройдет, это несерьезно. Где это видано! Так в Музеях Ленина делать не принято». На что наши веселые архитекторы настойчиво отвечали: «Да это же каньон — такое новое решение. Каньон дает возможность воспринимать концепцию с разных уровней». И все в этом роде: каньон бла-бла-бла, каньон бла-бла-бла. И так шло от заседания к заседанию. Каньон… Каньон. Наконец проект этого музея был завершен. Совет собрали в очередной раз с целью обсуждения нового проекта — уже другого музея. На первом же заседании, когда рассматривалась его концепция, самый ярый до этого противник каньонов взял слово и хорошо поставленным голосом заявил: «Товарищи, в принципе все неплохо и может быть одобрено. Но, товарищи, позвольте вас спросить, где же каньон?» «Его здесь нет и быть не может, он здесь совсем ни к чему», — еле сдерживаясь, чтобы не заржать, ответил один из архитекторов. И еще долго после этого слышалось сдавленное возмущенное бурчание членов, мол, как же так, без каньона, это уж ни в какие ворота не лезет. Совсем уже… до чего дошли.
Так вот, мы, молодые скульпторы, были счастливы, когда появлялась возможность «полепить для музейчиков», как мы это называли, и заработать очень приличные по тем временам деньги. Советская власть бабла на пропаганду не жалела. Единственное, что омрачало процесс, — сроки. Они были нечеловеческими. Для музея в Казани я должен был слепить двадцать семь или шесть, не помню, студентов Казанского университета. Граф Воронцов выбрал тему «Смерть вождя». Я вынужден был лепить с нечеловеческой скоростью. Это не могло не сказаться на персонажах. Потом гипсовые фигуры я должен был раскрасить под живых. Надвигался грозой визит самого главного секретаря местного отделения компартии. И наконец он появился с умными замечаниями: «А знамя красное ведь будет, да, товарищи?» — спрашивал он скороговоркой с акцентом у Воронцова. На что тот задумчиво отвечал: «Нет, уважаемый …». Имя и отчество я, к сожалению, не помню. «Вся композиция бронзовая, а красить одну деталь, как вы знаете, дурной тон». Начав просмотр с конца, эксперты добрались до вводного зала в последнюю очередь. С мраморной парадной лестницы спускались на зрителя по правой ее стороне мои возмущенные гипсовые студенты, ведомые Володей Ульяновым. Что греха таить, слеплены они были слегка гротескно, со скрытой иронией. «Ведь это Ульянов, товарищи? Да, впереди? — опять затараторило первое лицо. Вождь же, у него должно быть выражение вождя, а тут, понимаете ли, товарищи, слишком, ммм, слишком спокойное». Скульптор Мокроусов с голыми ногами, одетый в синий рабочий халат, угрюмо заметил: «Ленин был, как мы с вами, человеком, тоже писал, какал».
«Нет, — не унимался секретарь. — Нужно чтобы все-таки вождь!» «Неси, Саша, ножовку и мешок», — тихо попросил я Воронцова. Саша, обожавший подобные мероприятия, все мигом понял и через две минуты стоял перед вождем с ржавой пилой, толстой веревкой и мешком для картошки. Комиссия заметно напряглась, притихла. «Пили», — махнул я рукой. Граф с индифферентным породистым лицом подошел к натурально раскрашенному молодому «Ленину» и поднес ножовку к шее вождя. Комиссия слабо запротестовала. Ольга Сергеевна — директор Центрального музея Ленина — выдавила из себя: «Ну не сейчас же!» «Нет, только сейчас, потом будет поздно, товарищи!» — с брайтонско-ленинской интонацией, чуть ли не грассируя, воскликнул Александр и принялся отпиливать голову вождю. В звенящей тишине раздавались только шуршащие звуки ножовки, вгрызающейся в гипс. Натуралистично раскрашенная голова, только что гордо смотрящая в светлое будущее, шевельнулась и вскоре отвалилась. Импровизированный палач, ловко подхватив ее, сунул в мешок, уверенно завязал веревкой и попытался передать его главному секретарю. Тот отшатнулся как черт от ладана. В итоге голову забрал мой помощник Витя Колосов. Теперь вышло, что революционных студентов вел Володя Ульянов без головы. Потом все как-то стушевались и, расстроившись, пошли в зал, стоявший особняком. Этот последний зал, как часто случается, оказался рядом с началом экспозиции. Посвящен он был смерти вождя, а автором его, как я уже сказал, был Александр Воронцов. Трагедию случившегося должна была передавать опечаленная толпа бедноты, вышедшая на улицы в виде демонстрации. Немного впереди с флажком шла девочка-дебилка (по выражению самого автора), бритый, видимо от тифа, ребенок лет пяти, одетый в пальто не по размеру. Подлинная фотография этой девочки располагалась на видном месте. Передать выражение ее лица мне не представляется возможным. За ней ковыляли убогие и сирые. Надо сказать, что слеплено это было мастерски, и каждый образ имел прототип, взятый из хроники тех лет. Распечатанные с увеличением образы размещались рядом на наскоро сбитых подобиях мольбертов и подлинностью своей заставляли молчать. На крышах домов тоже шла жизнь, там страдали люди и кошки, росли молодые березки. «Александр Владимирович, — обратилась к автору Ольга Сергеевна, — может быть, вам попробовать взять какую-нибудь другую тему?» «Нет, товарищи, эта тема мне очень дорога», — потупив взгляд и смахнув слезу, прохрипел Саша.
Благодаря этим музеям все мы работали, росли профессионально, часто встречались, ржали, набирались опыта. Потом, много позже, Александр с женой и дочкой Елизаветой переехали в деревню верст за четыреста на север от Москвы. Я как-то приезжал к ним в гости, засев на своей «ниве» несколько раз. Помню, что уезжать уже не хотелось. Баня по-чёрному тогда открыла мне глаза на жизнь. Я понял, что до этого просто жил вполноги. Берег туманного озера, утки, цапли, белые, пахнущие зимой рубахи, самогон, печка. Какая там Москва. Сашка научился вырезать русских птиц счастья, и вся изба была в этих птицах. Разного размера, свежевырезанные, а некоторые уже раскрашенные, они свисали с темных потолков.
Пахло деревом и пирогами.
На этом остановлюсь. Дальше все было плохо, не хочу об этом.
Саша Воронцов на своем примере показал нам всем, какие раньше жили люди в России.
Комов
Лев Кербель — Владимир Цигаль, Юрий Нерода — Иулиан Рукавишников, Олег Комов — Юрий Чернов, Леонид Баранов — Иван Казанский, Михаил Переяславец — Александр Рукавишников. Эти «сладкие парочки» в московской скульптурной среде появлялись примерно раз в десятилетие. Пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые и, наконец, пресловутые девяностые — когда