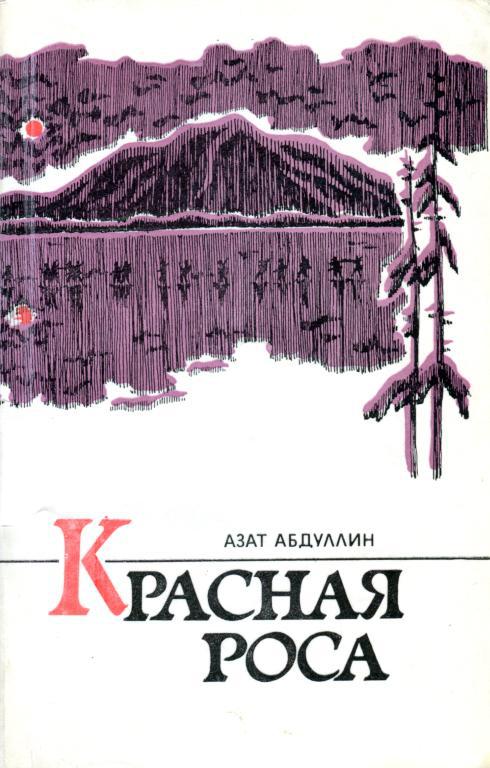потом, гораздо позднее, много поучительного, подсказали больше и точнее, чем счастье и благополучие. Он понял, что чувство близости с людьми, потребность в чистых, глубоких привязанностях даруют человеку сильный жизненный интерес и крепят его.
А вот другая фотография. Снялись в шестидесятом году, весной, у холма.
Он вглядывался в фото, и ветерок, долетающий издалека, вдруг донес до его слуха давно умолкнувшие и вновь зазвучавшие голоса, голоса девчат.
Их было двенадцать. Все студентки, из Оренбургской области, приехали по настоятельной просьбе райкома комсомола, на лето. Совхоз в том году задыхался без доярок. Газеты писали «догоним, перегоним», а тут совсем съехали с круга — коров некому стало доить.
Он вспомнил, как к нему пришел тогда бригадир фермы, Калимулла Аитов, которого он, Кильдибай, знал с того времени, как помнил себя. Несмотря на свои шестьдесят лет, Аитов был подвижен и горяч. Цепкий, пристальный взгляд его смущал любого, а уж у кого совесть нечиста, повергал в смятение. Однако с некоторых пор, хоть и привычно, с редкой хозяйской хваткой правил он фермой, горькие думы и беспокойство все ниже клонили его голову.
Молча постоял он, покурил и каким-то чужим, приглушенным голосом проговорил:
— Ферма в прорыве, Кильдибай… горит синим пламенем. — А глаза смотрели студенисто и неподвижно. Потом он распахнул ворот рубахи, словно ему не хватало дыхания. — Для человека, если он связан с землей, со скотоводством и живет по их уставу, это большая боль, понимаешь?.. Все здесь создано нашим трудом, нашим потом.
И взгляд его вдруг стал колючим, упорным.
— Нельзя, чтобы оно пало прахом. Самым низким человеком буду, если это допущу…
Посидев с минуту оцепенело, он чуть ли не с гневом обратился к нему:
— А эти хрупкие девчонки?.. Знаю, залетные птицы… Но ведь они по доброте души откликнулись на наш крик! Разве можно допустить, чтобы они надрывались, поднимали фляги, полные молока… и уехали, плюнув на всех и на все?.. Нет. Среди них должен быть парень. Сильный и честный. Чтобы согревать и волновать их, понимаешь? Но не более того, упаси бог! Просто согревать — до самого сердца. — Он уже улыбался. — Чтобы показать им: мы тоже не обделены добром, лаской и благородством!
— Не узнаю я тебя, дядя Кали… — со вздохом отозвался он, чуть замявшись. — Заискивать ты стал. Ну, с другими ладно. Зачем со мной так?
— Иди дояром, браток, — выдохнул Погорелов.
Он оторопел. Калимулла завершил словами, которые произносил в трудную минуту:
— Теперь ты понимаешь, Кильдибай, почему это так необходимо?!
Он не проронил ни слова, да в этом и не было нужды. Выслушав Калимуллу и глядя на его заострившееся лицо, он с минуту маял себя думами и решил поддержать его, друга отца, во всяком случае, попытаться это сделать.
А чего стоило это ему тогда… Аульчане смеялись, сверстники язвили насмешками: «Девчонки ему от ворот поворот дали, так он, ха-ха-ха, к коровам пошел…»
А на вторую неделю, как на грех, с ним приключилась беда. Хуже и не придумаешь.
Это случилось во время дневной дойки. Он подсел к корове, вздрагивавшей от остервенелых оводов, только начал было доить, и тут она качнулась и лягнула — удар чудовищной силы угодил ему в лицо. Боль прошла сквозь все его тело. Он опрокинулся на спину и потерял сознание…
Когда пришел в себя, он не знал, долго ли пролежал так. Словно с трудом пробуждаясь ото сна, собрался с духом и сел и почувствовал, как кровь из носу, треснувших губ и выбитых зубов струйками стекает по подбородку. И в обморочной качке, будто в облаке пара, он возле себя увидел ее, Валю. Вот она, крайняя на этом снимке.
Видно вспомнив старинный обычай, она окунула его голову в ведро с парным молоком и, быстро сняв платок, расшитый тесьмою, наглухо повязала ему лицо. Потом опустилась рядом, обхватила колени руками, склонила голову и начала плакать. Тогда сквозь платок он выговорил:
— Не надо. Я сейчас думал. Крепко думал! Подлец буду, если сдамся…
А голова раскалывалась, точно водили там каленым железом, и он, задыхаясь, глотая воздух ртом, сжимал кулаки, чтобы снова не потерять сознание.
А на другой день, после дойки, они пошли в степь. И он, все еще с глухо повязанным липом, ни с того ни с сего, скорее из озорства, полез на дерево. На высоченную березу с гладким, почти без веток, стволом.
И когда он останавливался, не в силах дальше ползти, она кричала снизу:
— Выше! Еще!
Он изо всех сил вцепился в ствол и карабкался вверх, а она все кричала:
— Выше, Кильдибай, выше!
Он добрался до самой верхушки и опасно закачался на ветке. И, глядя, как она, задумчивая, замкнутая в своей тайне, хлопает в ладоши, ликует, и, слушая трель жаворонка и разноголосые звуки степи, он затрепетал от мысли, которая пришла ему в голову, от мысли, что это и есть хорошая жизнь, когда ты сознаешь свои силы и достигаешь вершины того дела, которому ты себя посвятил.
Очень хорошая, нужная это была мысль…
То лето еще продолжалось, и рассветную тишину и светлое голубое небо, казалось, взламывала песня, смех, голоса девчат, и среди них — голос ее.
Утренняя дойка проходила в обильной росе, в прохладе, свет растекался по всему небу, и цветы, растущие большими полянками, горели радугой.
Потом из-за холмов вываливалось солнце, теплел ветер и воздух становился горячим. Спины девушек темнели от пота.
Бесхитростные были они, работящие. Все светлые и чистые. Как белое молоко.
Загонял он их малость, правда. Но после дневной дойки он давал им полный роздых.
Девчонки бросались в речку, плескались, сверкали зубами, а потом до самого вечера, обнаженные, лежали на траве. Они улыбались ему, звали, а он, юношески застенчивый, затылком чувствуя их взгляды, поднимался вверх по речке, углублялся в заросли и там, скинув с себя все, стирал рубашку, майку, трусы и, развесив их, тоже загорал.
«Ты Кильди, — напоминала ему мать каждый раз, — работаешь с девушками. Они будут спать, а ты не спи — иди к реке, блюди чистоту». И еще говорила: «Они будут звать тебя, ластиться, а ты не иди. Когда идут, они беременеют до свадьбы».
Вечером он приходил на дойку свежим, чистым и подтянутым, чем всегда удивлял и умилял девчат.
И каждый вечер они вдвоем, держась за руки, поднимались на холм и, прижавшись друг к другу, долго сидели, глядя, как наливается алым цветом степь, кромка неба и как расправляют крылья облака.
Синими-синими глазами, как мартовское небо, она пронизывала его, в ответ он только пожимал