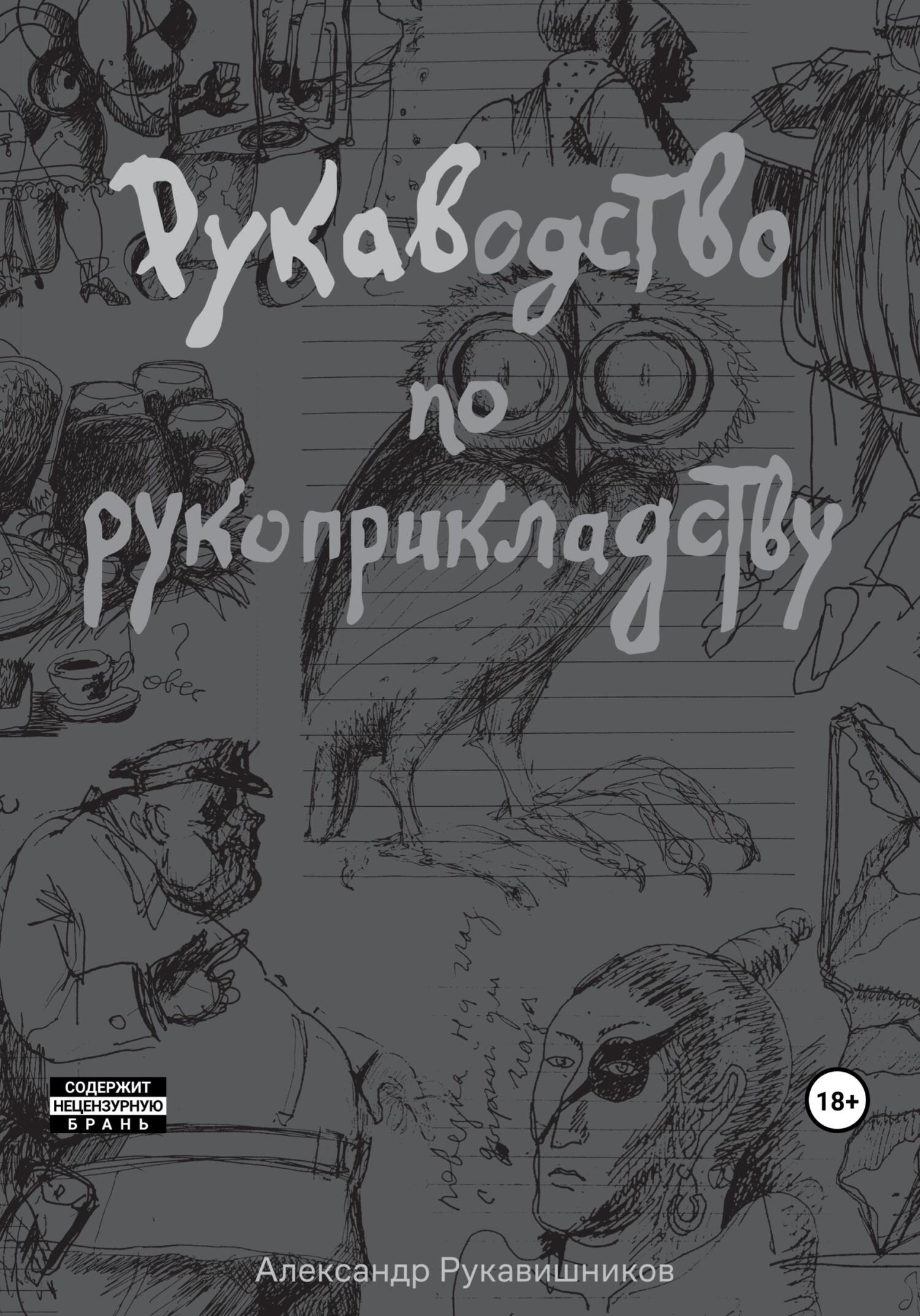мы прививаем это ребятам, что многих из них искренне удивляет поначалу. Ведь благодаря фильмам, романтизирующим будни художника, у публики сложилось мнение, что в мастерской у художника, а уж тем более у скульптора, должна быть свалка. Гора пустых бутылок, окурки и прочие атрибуты праздника. Возможно, кто-то и может работать в таких условиях. Вспомнить фотографии Фрэнсиса Бэкона из его мастерской — там среди хлама сложно заметить самого Бэкона. Он, конечно, педалировал все время тему, что он якобы не в своем уме, и лицо делал на фото соответствующее. И вот, мол, творческий беспорядок под стать. Что не делает его менее великим. Как-то раз, помню, я снял у коллеги (не буду называть его фамилию) мастерскую для выполнения заказа, так как в моей не хватало места. По обыкновению мы с помощниками начали приводить ее в порядок. Чтобы понять масштаб бедствия, скажу, что среди всего многообразия была найдена, например, открытая, но недоеденная банка бычков в томате. На ней стоял год изготовления — кажется, тысяча девятьсот шестьдесят восьмой! Какая рачительность, Плюшкину такое и не снилось.
Так вот, в октябре 2009-го я собрал студентов и в мягкой, как мне кажется, форме обрисовал им права и обязанности на первое полугодие. «Чё, ваще лепить что ль нельзя?» — спросил рыжий. «А у тебя чё, проблемы со слухом?» — начал заводиться я. Тот в ответ лишь улыбнулся.
И только в следующем полугодии мы поняли, что значит для него лепить. Без пафоса: то же самое, что дышать. Да, мы давно заметили: обычно, накопив за несколько месяцев рвущейся наружу энергии, ребята бросаются лепить как заведенные, приносят по три-пять эскизов для композиций в неделю. Только вот Саша Свиязов (так звали рыжего) приносил раз в десять больше. В общем, я быстро осознал свою ответственность перед Вечностью и бережно начал вести его — такой дар встречается редко и его легко сломать.
Количество быстро перерастало в качество. Свиязов демонстрировал невероятные результаты. На следующий год пришлось ему даже выделить дополнительную мастерскую, так как в общей его работы уже просто не помещались. Я никогда не встречал ничего подобного. Примерно половина из сделанного была безупречна, самобытна и, главное, не имела аналогов в истории скульптуры. Прошло еще несколько лет: никаких спадов, никаких «ожиданий музы», стабильно каждый божий день два-три шедевра. Все только поражались.
А затем наступила весна 2011 года. Я, находясь в Австрии где-то в окрестностях Хинтерглема, спускался на лыжах по довольно сложной для меня трассе, забыв выключить телефон. Он еле слышно пиликал, я выругался, остановился и с трудом достал его из дебрей куртки. Позвонили из института, не здороваясь сообщили: Свиязов в реанимации. Оказалось, что Саша и Виталий со второго курса, катаясь на коньках, столкнулись и, упав, оба потеряли сознание. Виталий очнулся через несколько минут, а второй впал в кому.
— Когда это было?
— Два дня назад.
Дело отдавало душещипательным и пошлейшим мексиканским сценарием. Гениальный мальчик из деревни Прислониха поступает в Суриковский институт, попадает в неплохие руки, делает на малой родине памятник своему кумиру Пластову. Все ликуют, и… такая трагическая развязка. Я отогнал мрачные мысли и начал звонить своим великим друзьям-медикам. Один, обрадовавшись моему звонку, сообщил, что он рядом, в соседней деревне, катается на лыжах. Другой был отключен. К счастью, вспомнили, что кум моего вышеупомянутого товарища Балашова был нейрохирургом. Он-то и поехал к Саше в больницу.
Сделали серьезную операцию с трепанацией черепа, и через несколько дней он пришел в себя. Все навещали его, молились. В итоге обошлось, но нервотрепка была приличная. Он работал так, будто ничего не произошло. Потом в лобную кость вставили пластину, и выросшие рыжие волосы скрыли шрам.
Сейчас он такой же, как раньше, глаз горит. Защитил на четвертом курсе малый диплом с похвалой, на шестом — большой, тоже блестяще. Сейчас Саша много работает, выставляется, по-настоящему помогает своему учителю, втихаря женился — свадьбу зажал. Дай бог, чтобы у них все было хорошо!
Сашка Свиязов, как он обычно представляется, смерчем ворвался сначала в тихий омут Сурка, потом в робкую и изобилующую посредственностями, по сути сервильную (не скажу кому) жизнь московской скульптуры. Нет, это не навязший на зубах «глоток свежего воздуха», это скорее запотевший стакан пахнущего антоновкой и первым снегом кальвадоса — яблочного самогона.
Его зачарованность жизнью безгранична, влюбленность в процесс создания рождающегося нового объема сравнима, пожалуй с влюбленностью Дж. Хендрикса в родную гитару. Пластика его предсказуемо непредсказуема и мощна, разум отпущен именно настолько, насколько надо. И главное. «Фрики» его любимы им до боли в стиснутых зубах. Он готов за них горло перегрызть. В этом принципиальное отличие его от искусства соц-арта. Там художник всегда посылает message — «вы же меня понимаете, я стебаюсь». Искусство Саши очень национально, интересно для иностранцев. Александр — второй из моих учеников, который в моем аномально сфумативно коаническом 23 сознании хронически коррелируется со сказочным Иваном-дураком. А миссию дурака, как известно, трудно переоценить. Первый великий ученик мой не из изо, а из будо — Сергей Шаповалов. Допускаю, что ему нет равных в современном мире, но с определенного этапа это не моя, а его заслуга. Обойдя учителя, он скрылся за горизонтом, однако всегда называет меня сенсеем.
Не так давно у Свиязова родился первенец — Григорий Александрович. Сашка попросил меня стать ему крестным папой. Я отказывался, объясняя тем, что могу быть только крестным дедом и помру до тех пор, пока он вырастет. На что он парировал: «С таким дедом лучше хоть сколько-нибудь пожить, чем с абы каким отцом, но долго».
Теперь Григорий мой крестный внук.
Твой учитель
А. И. Рукавишников
Данте в тюрьме (один случай)
Как-то зимой в середине девяностых мне позвонил мой приятель писатель и журналист Игорь Свинаренко и спросил: «Хочешь познакомиться с бабой-скульптором? Она рецидивистка — аферистка на доверии, в Орловской тюрьме сидит. Мы едем туда на симпозиум по правам женщин-заключенных». Я согласился. Мне и так давно по некоторым делам нужно было попасть в Орел: меня просили подумать о памятнике орловскому рысаку (к сожалению, в те годы лошадей этой старинной породы оставалось мало; не знаю, как сейчас).
В поезде нас ехало человек пятнадцать: в основном женщины — интеллигенция. На «волгах» городской администрации, присланных встречать нас, доехали до тюрьмы. Перед КПП, еще на воле, стояло нечто невообразимое, что-то мне сильно напоминающее, цветное. Секундное замешательство, и тут я понимаю: да это же мой деревянный Дмитрий Донской!