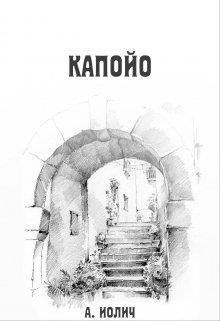Аяна встала, держась за протянутые руки Анкэ и Ригреты.
– Мы уж подумали... – сказала Ригрета, ставя на стол кружку с водой.
– Он ушёл на восемь месяцев в море, – пробормотала Аяна, держась за виски. – Он ушёл неделю назад и вернётся в декабре.
Ригрета пожевала губу..
– Ну тогда тебе надо к его родне, – сказала Чамэ.
– Я не могу. У нас нет бумаг. У меня нет даже этого вашего документа об имени. Ребёнка отберут.
Наступило тяжёлое, гнетущее молчание.
– Ты называла его мужем, – напомнила с укором Чамэ.
– Мы заключили союз по моим обычаям.
– Но ты же...
– Я знаю, – сказала Аяна, вцепляясь обеими руками в столешницу грубого грязного стола, на котором ожидал темноты незажжённый светильник. – Теперь знаю. Мне сказали в дороге, что здесь это не считается.
– Ты можешь поехать с нами. В сентябре мы будем, скорее всего, ещё тут, – сказал Айол. – У кира Суро.
– А потом, до декабря? Он вернётся в декабре. Я не выдержу столько в дороге с Кимо. Но у меня нет работы тут. Я не потяну оплату постоялого двора, еды и прочего. Деньги заканчиваются всегда слишком быстро.
Руки дрожали. Она наклонилась и подняла веточку купресы с пола, села за стол и долго разглядывала её. Потом вынула нож и несколько раз провела по коре, как она делала дома, перед тем, как убрать для аромата в полотняный шкафчик или сундук.
Купреса пахла так, что накатившая сразу же тоска по дому казалась просто невыносимой. Молчание было гнетущим. Аяна отрешённо смотрела на купресу, потом встала и нагнулась к коробу кемандже, открыла защёлку и сунула туда надрезанную веточку.
Она шла к Конде больше двух лет. И еще треть этого срока ей надо продержаться в ожидании его. Снова. Терзаясь от неизвестности насчёт судьбы Лойки.
На ноже остались небольшие коричневые частички коры. Она стряхнула их пальцем. Верделл. Злость поднималась в ней. Болван. Зачем он ввязался в эту переправку ачте? Неужели нельзя было найти что-то более... законное?
Она сжала челюсти так, что у неё заболели зубы, и с такой же силой сжала нож в руке. Потом замахнулась.
– Хха!
Нож вылетел и вонзился в доски двери. Она стояла, не разжимая челюстей.
– Ты это... – сказал Айол. – В дверь-то не надо. Мало ли.
– Ну и что мне делать? – спросила она.
– С нами же ты не поедешь? – задумчиво предположила Анкэ. – Ты не выдержишь, да и ребёнок растёт. Чамэ пришлось отдать своего, чтобы не мучить его в тесном фургоне. Может, отдашь его родне мужа... Родне его отца?
Аяна побелела. Нет. Никогда.
– Нет. Я могла оставить его тебе или Чамэ, но если я не смогу просто прийти и увидеть его, то я сойду с ума. Мой друг рассказывал, что его не пускали к маме, даже когда ему было восемь.
– Ну, не все же такие...
Аяна вспомнила всё, что Конда рассказывал ей про отца и покачала головой.
– Если человек называет отца по имени... и никогда – отцом. О чём это говорит?
– Слушай, ну должен же быть какой-то выход. Хоть какой-то.
– Мой любимый – в море. Моя сестра пропала. Она должна была приплыть на корабле, но в списках её нет, – сказала Аяна. – В моей голове по кругу вертятся две мысли. «Что делать». И «как не сойти с ума».
Айол с усилием вытащил нож из двери.
– Для начала больше так не делай. Ты можешь кого-то убить или серьёзно покалечить.
Он подошел к ней и сунул нож обратно в ножны на поясе.
– Во-вторых, если не будешь выступать, – покрутил он в руке прядку её волос, – то лучше смой краску. У тебя будет ещё достаточно времени, чтобы попортить ему репутацию. А если будешь выступать – надо предупредить старину Кайзе, что у него будет выступать ондео. Народу много, денег соберёшь достаточно.
– Мне нужны деньги, – сказала Аяна. – Я выступлю.
– Ты в состоянии? – усомнилась Ригрета.
– Нет. Но это неважно. Деньги важнее.
Деньги сейчас были гораздо важнее, чем её переживания. Скоро Кадиар уедет. Она либо должна поехать с ним до сентября и потом продержаться три месяца, либо искать работу здесь.
Она растёрла лицо руками. С одной стороны – тесный фургон, сон на полу под одним одеялом с Киматом и Чамэ или Ригретой, стирка в каждой встречной луже, ночёвки у костра в окружении огромных звенящих голодных комаров, отсутствие чистой воды, поиски тёплой еды, ветер, грязь, ноющие от тряски кости. Она терпела это, потому что ехала к Конде. Это было... временное неудобство на пути. Но жить так и дальше, осознанно отправившись с ними?
С другой стороны – незнакомый город. У неё пока есть деньги, но на сколько ей хватит их? Комната в постоялом дворе здесь стоит шестнадцать медяков в день, стойло для Ташты – три медяка. На восемь месяцев ей не хватит имеющихся денег даже на это, а ещё еда... Она же не может ходить по постоялым дворам и играть там?
– Кадиар, ты говорил, что есть такие хорошие заведения, в которых сидят музыканты и играют за деньги?
– Ты женщина. Туда не берут женщин.
Здравствуй, дивный мир Конды...
– Ладно. Предупреди, что я приду выступать. Ещё не слишком поздно?
– Самое то. Только не тяни.
Он ушёл, и Аяна снова надела голубой халат. Она накинула плащ, взяла кемандже и спустилась вниз, печально шурша подолом. Голоса вокруг постепенно затихли, когда из-под смычка полилась тихая, спокойная мелодия.
Ей не хотелось петь. Её душа болела. Кемандже бесстрастно, негромко напевала о сборе осенних яблок. Аяна не думала о яблоках, она думала о руках Конды, о его длинных красивых пальцах, и о своих, когда они скользили сквозь его гладкие, блестящие волосы. Кимату уже будет больше двух лет в декабре. А что если очередной шторм...
Кемандже взвизгнула. Нет. К чёрту яблоки. Аяна дёрнула пряжку плаща, потом резко вытащила гребень и бросила его на колени. Голубые волосы рассыпались по голубому халату, роняя осыпающиеся частички краски, как осыпаются чешуйки с крыла бабочки при неосторожном касании. Синие сумерки за окном и жёлтый свет фонаря с прозрачными стёклами окрашивали её с двух сторон в свои цвета.
Она играла песню про человека, который унёс её сердце в море, и вот теперь струны кемандже отзывались. Аяна вспомнила легенду про девушку из дворца, которая не могла попасть к любимому, поэтому сыграла мелодию своей души на доло и переселилась этой музыкой в сердце возлюбленного, оставив земное тело. Сколько можно мучиться?
Милый, мой милый, родной, сердце моё ты забрал... Аяна закрыла глаза, и короткими фразами в три звука кемандже плакала о её пути, который должен был закончиться, но всё тянулся и тянулся, бесконечно.
Но мелодия не была бесконечной. Она повисла над столами, как дым благовоний Фадо, как рассветный осенний туман долины Фно, и постепенно растворилась в вечерней дымке. Аяна подняла наконец голову, резко встала, прошелестев подолом, и ушла, подхватив плащ и гребень и даже не заглянув в кружку, которую Кайзе выставил на стойку. Она даже не могла вспомнить, бросали ли туда монеты.
Её провожали молчанием. В комнате запоздало всплыло воспоминание о деньгах, но сил не было. Она отдала свою душу этой песне.
Она убрала кемандже и легла рядом с Киматом, обнимая его. Сыну будет больше двух лет, когда Конда вернётся. Когда он вернётся.
Тёмная пепельно-серая вязь арнайских букв, стекающих по плечам и спине. «Мирное ткачество да прославлено будет, стремись к свету и добру, и да услышь других и говори с ними на своём пути». Она медленно читала слова, выбитые под его кожей, ведя по пепельным буквам кончиками пальцев, а он поправлял её, смеялся от щекотки или блаженно потягивался. Потом он перевернулся на спину и смотрел ей в глаза, и зрачки были как две бездонные пропасти во мгле.
Аяна открыла глаза. Было совсем рано, но тут и светало тоже рано. Она обхватила себя за плечи и сидела, слушая храп Кадиара и Харвилла и тихое сопение остальных.
Она оделась и спустилась к колодцу. Во дворе было пусто. Ташта дремал в небольшом стойле. Аяна походила туда-сюда, рассматривая каменную кладку стен и брусчатку двора, но сон не возвращался, казалось, наоборот, только отступил.