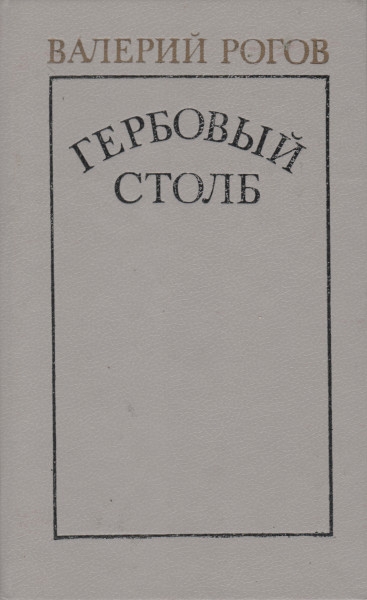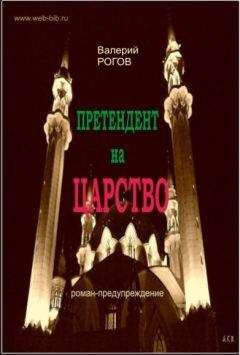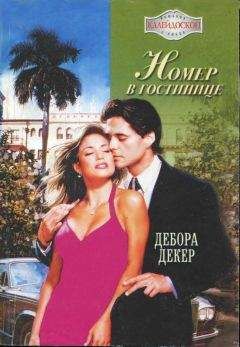неправдоподобно: у них, на Луговом краю, чужие солдаты в гладких серых шинелях, чужие непонятные крики, мотоциклы с колясками — что же такое им сделал учитель, этот тихоня-заморыш?
Нет, ничего не понимала пятнадцатилетняя Надежда Шершанова. Но не страшилась, во все глаза пялилась, ожидая: «Чегой-то таперь будет?» И силилась понять: за что учителя-то? Что ж он натворил, отлучаясь-то? Мост взорвал? Или немца убил? Но из чего? У него и ружья-то никогда не было! И требовала у матери ответов, а та, прикусив платок, расслезилась, молча.
«Ну, за что?! За что?!»
«Коммунист он, Надька», — только и ответила.
А потом, когда уже над лесом лежала багровая полоса и засинели сумерки, из Феодосьиной избы вытолкали мелкого учителя со связанными за спиной руками, в посконной рубахе, босого, и трое с офицером погнали его по снегу через луг, к лощине. Там, за белым изгибом, они скрылись, и вскоре раздался, оглушив тишину, одинехонький выстрел, потом опять показались их маленькие головки в мышиных пилотках с наушниками и гладкие длинные шинели. Все четверо смеялись, о чем-то говоря, будто что-то пустяшное совершили, будто и не они убивали. И расселись на мотоциклы, и, не оглядываясь, не желая ничего больше, затарахтели, укатили...
А они думали, раз выстрел одинехонький, то, может, жив учитель, только раненный. Бросились его спасать сразу, как скрылись изверги, но напрасно: весь ему затылок разверзло... В ночь обмыли страдальца, в чистое обрядили, больше всех, конечно, Феодосья Анисимовна суетилась-охала, а поплакали все, искренне и обильно, над горе-смертью его, над своей горе-жизнью, а под утро, лишь засветилось, вырыли могилу на месте казни, у двух корявых сосен, уложили еловый лапник на дно, чтобы мягко ему спалось в вечном покое, и, обшитого простой белой простынкой, опустили туда, откуда возврата нет. Закидали сухой коричневой глиной, а холмик огородили жердочками. Все совершили вовремя, боялись, что вновь нагрянут супостаты, но те больше не объявлялись.
А через неделю орудийный гул приблизился к Спас-Николину, и драпанули незваные гости без огляду, а Надька с матерью бегали по тропе на шоссейку к школе, сожженной теми в злобе; и радовались, и приветствовали родненьких освободителей.
В том же сорок первом, в декабре, после освобождения, вступила Надежда Шершанова в колхозницы и протрубила в полеводах да скотницах тридцать лет, пока не надоумилась пристроиться в недалекий дом отдыха, сначала уборщицей, а потом и на чистое место — дежурной. И в долгие пустые сидения на своих круглосуточных дежурствах она поняла, что жизнь пролетела, а ни любви, ни счастья так и не дождалась. Впрочем, как и многие в округе. Была она, можно сказать, замужем, родила дочь, в бабку превратилась, а все чувствовала себя нерастраченной, вроде бы не начинала еще жить по-настоящему, по-положенному, так, как испокон веку водилось, а не так, как им всем пришлось — второпях, по-временному, без мужиков, без полного дому...
Ее замужество оказалось случайным эпизодом: летом сорок третьего провожалась с Васькой Тухтыхиным, бывшим ее одноклассником, а тогда тоже колхозником, не утерпела, поддалась на уговоры, — а что ж тут особенного? В семнадцать-то лет такое нетерпение распирало, разве сладишь с желанием? Ну, и понесла. Он, правда, честным ухажером оказался, посватался, кое-какую свадьбу сыграли, а в загсе районном их не расписали, возрастом, видите ли, не вышли, подождите, мол, годочек, до восемнадцатилетия, и тогда, пожалуйста. Но как было ждать-то? Осенью его загребли в армию, военком до совершеннолетия ждать не желал, и с росписью им не помог, а Васька, и она это предчувствовала, погиб сразу.
И вот осталась Надежда опять Шершановой, будто злой рок преследовал: родилась от Крученых, а нате — Шершанова, замуж вышла — Тухтыхиной стать полагалось, а оно снова — Шершанова. И как-то стыдно было: вроде бы жена погибшего воина, а как оформишь? Хоть и мало что полагалось солдатке, а все преимущества имелись, но ей и этого не досталось. Однако дочь она Тухтыхиной записала, Анной назвала в честь его матери, та, чем могла, поддерживала — продуктом, одежонкой. Но разве ей такая поддержка требовалась? Ей женой, бабой быть хотелось! И-ий-ох! Хоть на осине вешайся...
А девка еще в пеленках норов проявила — крикливая, неугомонная: намучились они с матерью. Но подросла и такой независимой, своевольной оказалась, заботы о себе не требовала, все самостоятельно решала, а в общем, неласковая, отстраненная какая-то, во всем сама по себе, о себе только думает. Бабка, так та кручинилась: мол, не случалось в роду такого «чижолого» характера. С этой кручиной и померла.
Нюрка кое-как одолела семилетку и сразу без задержки, без совета пристроилась работать в дом отдыха. Сначала в судомойки, потом в подавальщицы — там и отыскала своего Клюгина. Вцепилась в него, как кошка, — не оторвешь, не прогонишь, женила на себе и поселилась в Москве чин чином. Пристроилась к нему на завод работать, но — в столовку: всегда сыты и при деньгах. Клюгин, тот тоже хозяйственным оказался, а может, Нюрка переломила, под себя поджала. Какая разница? В общем, не разлей вода сделались.
От Спас-Николина не отвернулись, не возгордились, а наоборот, поместье задумали отгрохать! Построили сзади обветшавшей избы кирпичный дом, прямо впритык, на месте, где всегда скотный двор жался, и такая уродина получилась, что Надежда Илларионовна теперь и в своей избе стыдится жить. Хотя перед кем ныне стыдиться: старики, истинные жители села, давно повымирали, а нынешние — наезжие да родственнички, проживающие в Москве, — такого на подворьях нагородили, что только диву дащься.
А Нюрка вроде как без совести родилась — только о своей выгоде печется, ничего другого не замечает и, бесстыжая, нахрапистая, нахальная, прямо матери заявляет: «Умрешь, и снесем твою развалину. Чего дурью маяться?..
О всех, кто не по ней, Нюрка отзывалась недобро, и все они, включая и родную мать, — дурью маются. Вот и ораторство матери в праздники Победы на могиле учителя — дурь, да еще какая — потусторонняя!..
А как все произошло?
Когда разрослось движение памяти о войне, пионеры-следопыты принялись обходить избы на Луговом краю, расспрашивать, кто да что помнит об учителе? А никто, кроме нее, ничего не помнил; те, которые знали его и помнили, не дожили до «всенародного движения». Она сначала нехотя кое-что вспомнила, не придала большого значения этому пионерскому поиску, а глянь-ка, к ней учителя пожаловали, и — на тебе! — не только выспрашивают, но и