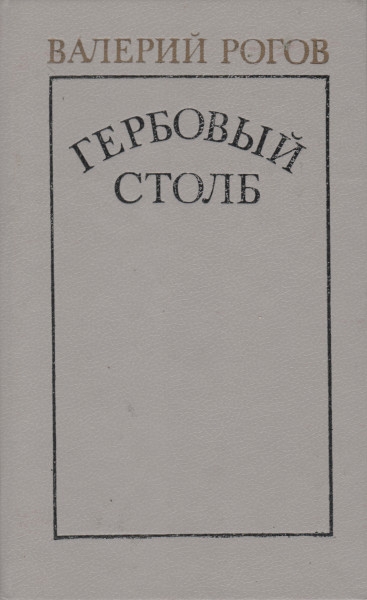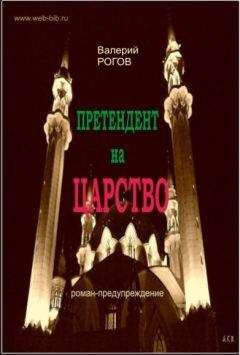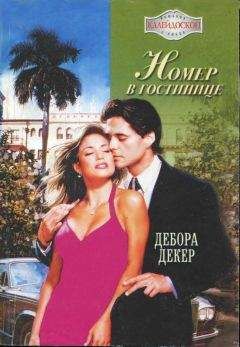записывают в тетрадку все подробности «героического подвига Птицына». И обещают еще прийти, и разъясняют, что это «исключительно важно для военно-патриотического воспитания подрастающего поколения», а у них, видите ли, «под носом такая редкая возможность для наглядного примера» — могила «героически погибшего учителя их школы».
И Надежда Илларионовна взяла в толк, чего от нее добиваются, — того, что Птицын был героем. Сначала ей не по душе это пришлось; сначала она только правду рассказывала, как на самом деле все было, как сама она из окна наблюдала, как хоронили страдальца, таясь и пугаясь, но по обычаю, по чести-совести. И о том, как еще в войну пирамидку из досок соорудили со звездочкой из жести и красной краской покрасили. Как потом, уже после войны, подгнившую дощатую пирамидку кирпичной заменили, оштукатурили и стальную пластину на ней закрепили со словами: «Здесь покоится Птицын Михаил Андреевич, учитель-коммунист, зверски расстрелянный немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1941 года». Ту, которая и поныне сохранилась, лишь чуть по краям приржавела. Как звезду стальную на пирамидной макушке укрепили, и очень необычную, как бы перекрестили две звезды, отчего они на все четыре стороны ребрятся. Как ограду железную ставили, в голубое окрасили, в небесное, чтобы она средь зеленого луга, как небесная тень, выделялась. И еще о том, что раньше, до особой военной памяти, обновляли могилку перед Седьмым ноября, нашим главным праздником, потому-де, что учитель за Советскую власть жизнь отдал.
Но всей этой правды было мало и учителям, и школьникам, а хотелось им, чтобы Птицын геройский подвиг совершил, чтобы он гневные слова бросал в лицо палачам, чтобы он богатырского роста был, чтобы партизанил, чтобы мосты взрывал и склады с боеприпасами. Чтобы в святой ненависти многих фашистов поубивал и чтобы его родные отыскались.
Выяснила Надежда Илларионовна, что ничегошеньки в новой каменной школе, поставленной на месте их бывшей бревенчатой, не сохранилось об учителе Птицыне. Что ж, видно, все сгорело, а его личные документы, похоже, тот офицер с пистолетом забрал, — ни облика, ни возраста, ни происхождения: одна лишь могилка у лощины под соснами на их спас-никольском лугу. И тогда она согласилась, поддалась настойчивым расспросам, будто подсказкам, и принялась изображать Птицына таким, каким им хотелось, — героем, богатырем, мстителем. Будто крикнувшим перед смертью фашистам: «Всех не перестреляете! Все равно победа будет за нами!»
По ее воспоминаниям школьники писали сочинения, а учителя дали однажды почитать. Ох, каких только подвигов не насовершал Птицын! Больше всего потрясло то, что дети считали ее его женой! Это так поразило Надежду Илларионовну, что она даже расплакалась от недоумения и стыда, но учителя ее успокоили, мол, сущие пустяки, непосредственность детского восприятия, а главное — учащиеся вырастают патриотами, преданными Отечеству, готовыми его защищать, как Михаил Андреевич Птицын, замечательный педагог и известный краевед, опубликовавший перед войной в районной газете большую статью о местном крае, о Спас-Николине, которое, представляете, было городом-крепостью Спас-Никольском в княжение самого Ивана Калиты, собирателя русских земель...
Популярность воскресшего из небытия учителя Птицына почти на равных сделала популярной в местной округе и Надежду Илларионовну Шершанову, которую все чаще стали называть Птицыной — кто оговариваясь, а кто по неведению. Однако не только ученики ее бывшей школы, но и их родители, да и многие другие, что-то слышавшие, нераздельно связали ее с героем-мучеником, расстрелянным фашистами.
Надежда Илларионовна сначала сопротивлялась, пыталась разъяснять, но молва оказалась всесильной, и она смирилась и таким странным образом оказалась, можно сказать, с ним обвенчанной.
Теперь Шершанова постоянно ухаживает за могилой, не дожидаясь очередного сбора перед праздником Победы. Она заметно состарилась, переменилась и в мыслях и душой. Вся эта история сделала ее печальной и скорбной, но и где-то по-странному счастливой, будто и в самом деле замужней, прожившей достойную жизнь, а потому уважаемой.
В шкатулку, где хранит документы и сберкнижку на полторы тысячи рублей, припрятала на самое донышко завещание, заверенное нотариусом, — знает, куда первым делом сунется бесстыжая дочь. Так вот, в этом завещании она отписала все деньги Нюрке, но с одним непременным условием — похоронить ее рядом с учителем М. А. Птицыным.
1988
Представился старик с достоинством — Иван Сергеевич. Ему семьдесят девять лет. Он нам встретился на лесной дороге, ведущей в дом отдыха «Созидатель», бывшую графскую усадьбу. Выглядел Иван Сергеевич незаурядно. Особенно нас поразил желтый портфель хорошей кожи, ставший кому-то ненужным, видно, из-за сорванного замка. Иван же Сергеевич перетягивает портфель черным электрическим шнуром, крепким и неломким. А носит его за плечами, как котомку, приспособив белую тряпку, которую пропускает через ручку, и потому тряпка не давит плечи и ее концы удобно держать у груди.
Одежда Ивана Сергеевича необычна для сельских жителей, но уж очень поношенная и, несомненно, с чужого плеча. Полубрезентовый плащ темно-синего цвета моды 50‑х годов, потертый и выцветший, широк и до самых пят худому и маленькому Ивану Сергеевичу. В двух-трех местах на плаще аккуратные заплаты, особенно заметна одна, на которую пришита пуговица. Вероятно, когда-то пуговицу вырвали «с мясом», и старик с тщательностью ликвидировал повреждение. Плащ носить еще рановато, достаточно тепло, а потому, разговорившись с нами, Иван Сергеевич полускинул непромокаемое, душное одеяние.
Пиджак у него тоже свободный и длинный, из темно-синего бостона, засаленный и потертый, а рубашка простая, хлопчатобумажная, застиранная до того, что исчез рисунок и остались лишь коричневатые разводы. Брюки, а точнее, порты у Ивана Сергеевича сатиновые, сажного цвета, которые до сих пор носят в здешней местности даже пожилые работницы Конаковского фаянсового завода. Заправлены порты в кирзовые добротные сапоги, совсем новые. Их, как мы вскоре узнали, Иван Сергеевич сам сшил. Еще, чтобы закончить описание одежды Ивана Сергеевича, надо непременно упомянуть коричневую фетровую шляпу с широкими полями. Он носит ее без всяких загибов и с непримятой тульей, плотно натягивая на брови.
Внешности Иван Сергеевич неприметной, от старости горбится. Личико узкое, маленькое, с глубокими морщинами вдоль щек, синеватым носиком и белесыми, бескровными губами. Старческое личико. Но карие угольки глаз, совсем без белков, не потухли у Ивана Сергеевича, смотрит он цепко, чуть сбоку и все замечает.
— Куда ведет эта дорога? — спросил мой товарищ, художник.
Мы были новички в этих местах. С утра побывали на Конаковском фаянсовом заводе, там, где когда-то производился знаменитый кузнецовский фарфор, а потом решили побродить вдоль